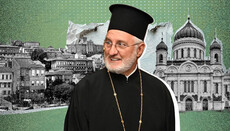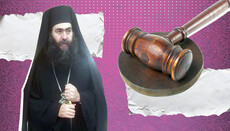Что дал и чего не дал Собор УПЦ в Феофании?

Три года назад состоялся Собор УПЦ, провозгласивший ее полную независимость. Сейчас уже можно подвести некоторые итоги и увидеть результаты его решений.
Краткая церковная предыстория
Киевская митрополия возникает в 988 г. с Крещением Руси. Организационно это несколько епархий, объединенных в митрополичий округ. Возглавляется она Киевским митрополитом и входит в состав Константинопольской Церкви. Взаимоотношения с Константинополем главным образом заключаются в том, что оттуда поставляют на Русь митрополита, а Русь отправляет в Константинополь щедрые дары. Киевская митрополия то разделяется на две, то опять соединяется воедино. Происходит это по политическим мотивам, когда после упадка Киева на Руси образуются два политических центра: Галицко-Волынское княжество и Владимиро-Суздальское. Решение в любом случае принимают в Константинополе.
Такой порядок вещей существует до 1686 г., когда Киевская митрополия решением Константинопольского Патриархата «на веки вечные» переходит в состав Патриархата Московского. Это, де-факто, признали все тогдашние поместные Церкви, представители которых сослужили с иерархами и клириками РПЦ без каких-либо канонических ограничений. После 1918 г. и до конца существования СССР Церковь в Украине существовала в статусе Украинского экзархата Московского Патриархата.
В 1990 г. она становится автономной Украинской Православной Церковью. Фактически она полностью самостоятельна и независима в управлении. Но формально есть несколько моментов, которые связывают ее с Московским Патриархатом:
- УПЦ соединена с поместными Церквями через РПЦ
- Предстоятель УПЦ благословляется Московским патриархом
- Имя Московского патриарха возглашается на богослужениях
- Предстоятель УПЦ является постоянным членом Синода РПЦ
- Собор епископов УПЦ действует на основании постановлений поместных и архиерейских соборов РПЦ
При этом сложно вспомнить случаи, когда РПЦ вмешалась бы во внутренние дела УПЦ даже в рамках вышеозначенных моментов. Руководящие органы РПЦ никогда не отменяли решений УПЦ, Московский патриарх всегда благословлял новоизбранного предстоятеля УПЦ и так далее. При этом канонический статус УПЦ определялся как церковная автономия в составе РПЦ.
Чтобы представить себе, насколько тесными являются эти связи и насколько «зависимой» является УПЦ, приведем положения Томоса и Устава ПЦУ о ее отношениях с Константинопольским Патриархатом. При этом, подчеркнем, что официально ПЦУ декларируется как «афтокефальная». Итак, эти положения следующие:
- ПЦУ связана с Православием через Константинопольский Патриархат
- Томос Константинопольского Патриархата имеет верховенство над Уставом ПЦУ
- Вопросы, не предусмотренные Уставом ПЦУ, решает комиссия, назначенная Константинополем
- ПЦУ имеет право окормлять украинцев только внутри Украины, за ее пределами это осуществляет Константинопольский Патриархат
- ПЦУ обязана обращаться на Фанар за решением важных вопросов, причем эти решения Фанар принимает самостоятельно и объявляет их ПЦУ
- Фанар имеет на территории Украины свои ставропигии
- ПЦУ получает святое миро от Константинопольского Патриархата
- Константинопольский Патриарх является последней судебной инстанцией для ПЦУ, а значит, может отменить любое ее решение касательно любых клириков
Как видим, зависимость ПЦУ от Константинопольского Патриархата значительно сильнее, чем УПЦ от РПЦ в 1990 г. При этом ПЦУ именует себя не автономной, а автокефальной Церковью.
Таким образом, к моменту проведения Собора УПЦ в Феофании 27 мая 2022 г. УПЦ уже была практически независимой во всех отношениях. Ее самостоятельность по факту превышала статус автономии. Однако провозглашению полной автокефалии мешали несколько моментов, главные из которых следующие:
• отсутствие в Православии принятого всеми порядка предоставления автокефалии и дискуссии по этому вопросу;
• отсутствие единого мнения среди иерархов, духовенства и церковного народа УПЦ о необходимости автокефалии.
Но тут возник очень важный фактор – война.
Краткая церковно-политическая предыстория
К сожалению, Церковь на Руси часто исполняла волю светских властей или, по крайней мере, им не перечила. В этом она брала пример с Церкви Константинопольской, которая исторически опиралась на власть императора – начала византийского, затем османского. И в большинстве случаев исполняла его волю.
Особенно это проявилось в той части некогда единой Киевской митрополии, которая образовалась во Владимиро-Суздальском княжестве. Затем ее центр переместился в Москву, и в итоге она развилась в РПЦ. Во многом этому способствовало то, что московский князь, а затем царь и император были православными. Та же часть Киевской митрополии, которая сформировалась в Галицко-Волынском княжестве и имела центр в Киеве, оказалась в составе Речи Посполитой, где господствующей религией был католицизм.
Московская митрополия, а затем патриархат практически всегда исполняла волю своих царей. Обратные примеры найти сложно, и они довольно неоднозначны. Например, если даже священномученик митрополит Филипп в XVI в. и выступил с критикой Иоанна Грозного, то остальные его собратья-епископы послушно низложили Филиппа и отправили в заточение в монастырь.
Киевская митрополия, напротив, исторически имеет большой опыт неповиновения светской власти, причем в самых невыгодных для Церкви условиях. Речь идет о Брестской унии 1596 г. Тогда власти Речи Посполитой решили, что могут легко и просто своим повелением подчинить православную Киевскую митрополию Ватикану. Аналогии напрашиваются сами собой: сегодня украинские власти решили, что также могут дать распоряжение Церкви и она послушно станет частью проекта ПЦУ. Но как тогда, так и сейчас (по крайней мере, по состоянию на сегодня) Церковь оказала неповиновение. Украинская Православная Церковь (будем называть ее так) в XVII веке предпочла испытать на себе гнев сильных мира сего, подвергнуться репрессиям, но не предать Православие и церковные каноны.
Если проанализировать события в церковно-политической сфере в последние десятилетия, то можно увидеть, что и УПЦ, и РПЦ стали выстраивать свои церковно-государственные отношения в соответствии со своим историческим опытом. Это стало особенно заметно, начиная примерно с 2008 г. В этом году УПЦ отказалась подчиниться требованиям администрации В. Ющенко и использовать приезд Константинопольского Патриарха Варфоломея в Киев для создания единой национальной Церкви. А в РПЦ в это же время на место упокоившегося патриарха Алексия был избран митрополит Кирилл, который постепенно вывел церковно-государственные отношения на новый и намного более тесный уровень, чем был при его предшественнике.
24 февраля 2022 г. началась полномасштабная вооруженная агрессия РФ против Украины, которая поставила УПЦ и РПЦ перед новыми вызовами.
Русская Церковь оказалась перед очень конкретным выбором: между евангельским учением и верностью государству. И если до войны их еще можно было как-то сочетать, то с началом «СВО» РПЦ оказалась перед дилеммой: либо – либо.
За время войны сотни украинских городов и сел были разрушены. Погибли десятки тысяч человек, а миллионы лишились жилья и средств к существованию. Более трехсот храмов УПЦ частично или полностью уничтожены. Казалось бы, христианин не может назвать это «богоугодным делом» и «священной войной» ни при каких обстоятельствах. Но, к сожалению, РПЦ на это пошла.
Конечно, никаких официальных документов о поддержке агрессивной войны руководящие органы РПЦ не принимали и, вероятно, значительная часть ее верующих не поддерживает эту войну. Но официальная риторика священноначалия Русской Церкви относительно «СВО» мало отличается от позиции светских властей.
Еще один важный момент. Мы наблюдаем полное отсутствие сочувствия и сопереживания к украинцам со стороны руководства РПЦ. Если исходить из позиции и риторики Русской Церкви, то верующие украинцы – такая же паства, что и верующие россияне. Но на практике мы этого не видим. В случаях ранений и гибели населения на территории РФ (например, в Курской области) обязательно следовали заявления поддержки от Патриарха Кирилла. В то же время, когда в несравнимо больших масштабах страдали украинцы, со стороны РПЦ – полное молчание.
Также нельзя не отметить синхронность действий священноначалия Русской Церкви с армией РФ. Те регионы, которые захватывают ВС России, спустя небольшое время оказываются присоединенными к РПЦ. То есть Русская Церковь отрывает их от УПЦ и переводит под свою юрисдикцию, хотя в решениях Архиерейского Собора РПЦ 1990 г. и в соответствующей Грамоте патриарха Алексия II подразумевается, что УПЦ самостоятельно управляет всеми своими епархиями. РПЦ не обращается ни в Синод УПЦ, ни к митрополиту Онуфрию, а просто своими решениями убирает из этих епархий их законных епископов и назначает своих.
Да, в большей мере все эти процессы раскрылись уже после 27 мая 2022 года. Но их предпосылки были видны уже с начала полномасштабных военных действий в Украине.
В качестве церковно-исторической предпосылки Собора в Феофании следует упомянуть и то обстоятельство, что государство на тот момент еще не начало масштабных гонений на УПЦ. Наоборот, из уст власть имущих звучали слова, что во время войны нельзя раскалывать украинское общество по религиозному принципу, а те, кто это пытается делать, работают на РФ. Конечно, уже было и давление на Церковь, и попытки ее очернить, и захваты храмов, но все это было далеко не в тех масштабах, как сегодня.
Цели Собора и его решения
Не будем останавливаться на ходе проведения самого Собора, скажем лишь о решениях, которые он принял и то, чем они были обусловлены. По нашему мнению, целей у Собора в Феофании было три:
- Сохранить верность евангельскому учению.
- Сохранить единство УПЦ.
- Отстраниться от Русской Церкви, действия которой, к сожалению, перестали в полной мере соответствовать учению Христа.
Наличие канонических связей с РПЦ позволяло многим считать УПЦ ее частью и ретранслировать на нее поддержку российской власти и войны. Соответственно, чтобы остаться на стороне Евангелия, необходимо было отмежеваться от РПЦ во всех отношениях, сохранив с ней только евхаристическое единство, как и со всеми другими поместными Церквями. Необходимо было выразить свое четкое несогласие с позицией РПЦ и отразить все это в Уставе.
Для реализации этой цели Собор принял следующие решения:
- Собор осуждает войну как нарушение Божьей заповеди «Не убивай!» (Исх. 20: 13) и выражает соболезнование всем, кто пострадал в войне.
- УПЦ выражает несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине.
- Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви.
- Собор имел суждения о возобновлении мироварения в Украинской Православной Церкви.
Последний пункт сформулирован достаточно расплывчато, но по факту УПЦ возобновила мироварение, что является атрибутом автокефальных поместных Церквей, да и то не всех. Также Собор принял решение об окормлении украинских беженцев за рубежом, открытии там приходов УПЦ, что также является прерогативой поместной Церкви.
Этими решениями УПЦ отмежевалась от РПЦ и разорвала с ней все административные связи.
До начала полномасштабной агрессии РФ в УПЦ существовали разные мнения по вопросу о ее каноническом устройстве. Одни считали необходимым объявить о полной автокефалии, другие, наоборот, призывали к более тесным связям с РПЦ. Статус церковной автономии более-менее устраивал всех и позволял сохранять единство УПЦ. Но с началом войны этот баланс пошатнулся. Блаженнейший Онуфрий сказал об этом так: «Уже в первые недели войны многочисленные священники нашей Церкви начали заявлять о своем несогласии со словами и действиями Патриарха Кирилла. Как отдельные приходы, так и целые епархии в разных регионах Украины начали отказываться возносить имя Московского Патриарха за богослужением».
В этой ситуации дальнейшее промедление с отмежеванием от РПЦ грозило УПЦ неминуемым расколом и катастрофической дестабилизацией церковного управления. Тем более что Патриарх Кирилл сам фактически отмежевался от УПЦ и украинских верующих, подчиняя себе украинские епархии на оккупированных территориях. Аргументация РПЦ в пользу таких решений военной реальностью выглядит малоубедительной, поскольку на Соборе приняли отдельное решение для тех епархий, которые оказались в зоне боевых действий.
Одно из решений Собора в Феофании звучало так: «На период военного положения, когда связи между епархиями и церковным руководящим центром осложнены или отсутствуют, Собор считает целесообразным предоставить епархиальным архиереям право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, относящимся к компетенции Священного Синода или Предстоятеля Украинской Православной Церкви, с последующим, при восстановлении возможности, информированием священноначалия».
Это решение предоставляло епархиальным архиереям на захваченных территориях самостоятельно управлять епархиями без обращения в Киев, оставаясь при этом в составе УПЦ. Таким образом управление епархиями сохранялось и не было никакой необходимости обращаться за этим в РПЦ.
Было на Соборе еще одно решение – о диалоге с ПЦУ. УПЦ озвучила условия, при которых такой диалог стал бы возможным:
- решить вопрос с неканоническими рукоположениями своих иерархов;
- признать зависимость от Константинопольского Патриархата;
- отказаться от практики захватов храмов и другого насилия.
Только при этих условиях диалог об объединении с ПЦУ не был бы отступлением от Евангелия и церковных канонов, но ПЦУ отказалась выполнять эти условия.
Выводы
Отвечая на вопрос, вынесенный в заглавие статьи, можно сказать следующее. Собор в Феофании позволил УПЦ остаться Церковью Христовой, не отойти от евангельского учения и не стать раскольниками. Собор позволил сохранить единство Церкви. Несмотря на репрессии, в структуру ПЦУ после Собора не ушел ни один епископ. Число ушедших из УПЦ священников очень незначительно – так же, как и мирян. УПЦ не пошла на поводу у властей и сохранила свою каноничность и чистоту веры. В этом во многом заслуга Собора УПЦ в Феофании.
Собор не смог предотвратить гонения на УПЦ со стороны властей, но это вина властей, а не Собора. Предотвратить их можно было только ценой самоликвидации и объединения с ПЦУ.
Со дня Собора прошло уже три года. Срок достаточный, чтобы говорить, что абсолютное большинство в УПЦ приняли его решения и живет по ним. Также ни одна поместная Церковь не опротестовала решений Собора, не заявила, что УПЦ ушла в раскол и перестала быть благодатной Церковью. Никто не разорвал общения с Украинской Православной Церковью, наоборот, многие выражают ей поддержку и солидарность. Произошла рецепция решений Собора на общецерковном уровне, а именно это является критерием его церковной легитимности.