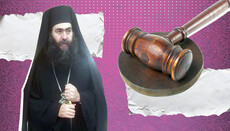Церковь и государство: уроки истории для современности

От петровских реформ до революции 1917 года: как государственная зависимость повлияла на Русскую Церковь и какие выводы стоит из этого сделать УПЦ.
Многие сегодня удивляются: как могло получиться так, что верующий православный народ, «народ-богоносец», как его называл Достоевский, вдруг, после революции 1917 года восстал против своей Церкви? Как могло получиться так, что народ, который шел на смерть «за веру, царя и Отечество», внезапно уничтожил веру, убил царя и разрушил это самое Отечество?
Действительно, то, что произошло после 1917 года, не вписывается в рамки человеческой логики. Были закрыты или стерты с лица земли десятки тысяч храмов, тысячи монастырей и скитов, расстреляны сотни тысяч верующих, тысячи священников и сотни архиереев, миллионы были заживо погребены за колючей проволокой ГУЛАГа. Как так получилось? А самое главное – почему?
Чтобы попытаться ответить на этот вопрос (который имеет значение и для наших дней) – обратимся к истории.
Когда Церковь перестает быть Телом Христовым
Уже с эпохи Петра I религиозная жизнь Русской Церкви подвергалась огромной и беспощадной критике. С одной стороны, Церковь критиковали в излишнем внимании к внешним формам культа, а с другой – она была под огромным влиянием государства. Человек, знающий церковные реалии того времени, и которого трудно обвинить в непатриотизме, славянофил Иван Аксаков писал: «Таким образом Церковь, со стороны своего управления, представляется теперь у нас какой-то колоссальной канцелярией, прилагающей, – с неизбежной, увы, канцелярской официальной ложью, – порядки немецкого канцеляризма к спасению стада Христова... По-видимому, Церкви дано лишь правильное благоустройство, – введя, наконец, необходимый порядок...
Но случилась только одна безделица: убыла душа; подменен идеал, т.е. на месте идеала Церкви очутился идеал государственный и правда внутренняя замещена правдой формальной, внешней; подсунуто другое мерило, взамен прежнего, духовного и нравственного; все пошло взвешиваться и измеряться на вес и аршин правительственный, клейменый... Дело в том, что вместе с государственным элементом и государственное мировоззрение, как тонкий воздух, почти нечувствительно прокралось в ум и душу едва ли не всей, за немногими исключениями, нашей церковной среды и стеснило разумение до такой степени, что живой смысл настоящего призвания Церкви становится уже ей теперь малодоступен... Нигде так не опасаются истины, как среди нашей церковной администрации, нигде не встретишь такого угодничества, как у нашей иерархии, нигде дух фарисейства так не силен, как среди тех, кто первый должен бы возненавидеть ложь».
Церковь и власть: вред или польза?
И действительно, трудно спорить с тем, что Церковь в то время подчинилась императорской воле. Например, указ Петра I от 22 апреля 1722 г. требовал, чтобы каждый священник (епископ – в том числе), вступая в духовную должность, приносил клятву «быть верным, добрым и послушным рабом и подданным императора и его законным наследникам», оборонять прерогативы и достоинство императорской власти, «не щадя в потребном случае и живота своего», доносить о всяком ущербе, вреде и убытке интересам императора, «об открытых на исповеди воровстве, измене и бунте на государя или ином злом умышлении на честь и здравие государево и фамилию Его Величества».
Другими словами, светская власть требовала от православного священника идти на нарушение основного канонического правила – сохранения тайны исповеди. По факту, Церковь была всего лишь «ведомством духовного исповедания», огромное влияние на которое оказывал человек, назначаемый императором – обер-прокурор Священного Синода. В результате
Церковь в России воспринималась придатком власти. А если так, то ненависть к государству однозначно касалась и Церкви. Причем, эта ненависть предчувствовалась задолго до 1917 года.
Так, князь Иван Гагарин, принявший католичество, писал: «Русская Церковь нуждается в независимости; она сама это чувствует».
При этом, понимая, что Церковь в России напрямую связана с самодержавием, Гагарин был уверен, что удар по царю заденет и Церковь. Тем более, что в недрах империи существовал старообрядческий раскол, который для Гагарина был еще одним источником недовольства самодержавной властью императора. Он считал, что Россию спасет только католичество. Почему? Потому что, в глазах Гагарина, а также многих русских интеллектуалов, католицизм обладал свободой, которой не было в Русской Церкви. Именно поэтому он писал: «Повторим, одно из двух: или католицизм, или революция. Русская Церковь бессильна, царская власть может только отсрочить взрыв, соединение расколов с началом революционным становится более и более неминуемым. Медлить нечего, а иного средства отвратить угрозу, кроме народного, русско-католического духовенства, сколько ни ищу, не вижу».
То есть, Гагарин понимал, что у Русской Церкви, плотно примкнувшей к государству, не было сил, чтобы справиться с теми революционными течениями, которые зрели в среде старообрядцев, более того, которые начали появляться и в среде простого русского духовенства.
Церковь и революция
Вот небольшой список известных революционеров, которые вышли из семей духовенства:
- Николай Гаврилович Чернышевский (1828–1889), известный теоретик русской революции, был сыном священника Саратовской епархии. Учился в духовном училище и семинарии;
- Сергей Геннадиевич Нечаев (1847–1882), организатор подпольной «Народной расправы», чья фигура стала символом фанатичного революционера, – сын диакона из Нижегородской губернии, учился в семинарии;
- Николай Иванович Кибальчич (1853–1881), член «Народной воли» (террористическая организация), главный конструктор бомбы, убившей Александра II, – сын священника Черниговской епархии;
- Михаил Александрович Новомирский (Тихомиров) (1850–1884), активист «Народной воли», – сын священника;
- Александр Дмитриевич Михайлов (1855–1884), один из руководителей «Народной воли», возглавлявший ее Исполнительный комитет, сын сельского священника;
- Владимир Ульянов-Ленин – выходец из духовного сословия.
Также не забывайте о недоучившемся семинаристе Сталине.
И это – только вершина айсберга.
Имен детей священников Русской Церкви, которые стали революционерами – сотни, если не тысячи. Причем, многие из них – не просто симпатизировали революционным настроениям, а прямо участвовали в актах террора и убийствах.
Почему так? Потому что они видели лицемерие и услужливость, которые стали частью жизни их отцов. Потому что они понимали: Церковь под властью государства перестала быть духовной матерью, стала частью бюрократической машины, а значит, если надо уничтожить эту машину, то надо уничтожить и ее части...
Таким образом, революция в России – это не просто народный бунт. Это в каком-то смысле итог несчастливого брака Церкви и государства. Церковь, связанная по рукам и ногам властью, не смогла стать голосом совести. И в итоге не только молчала, когда ее чада разрушали прежний порядок, но часто и приветствовала его.
Например, 5 марта 1917 года (через два дня после отречения Николая II), Святейший Синод заявил: «Святая Церковь Христова приветствует свершившиеся события, как милость Божию к народу нашему... Да благословит Господь Временное правительство и дарует ему силы совершить подвиг служения народу».
В итоге получилось так, что те силы, которые уничтожили царя – попробовали уничтожить и Церковь. А причина этому одна: когда Церковь становится частью государства, на нее начинают смотреть как на мишень, а не как на Тело Христово.
А что сегодня?
Да, сегодняшнее положение Украинской Православной Церкви многим из нас кажется невыносимо трудным: нам запрещают молиться так, как молились наши предки на протяжении столетий. У нас отбирают храмы, а власти делают все, чтобы УПЦ исчезла с религиозной карты Украины. Но,
если задуматься, может, в этом-то и состоит благословение Божие: в том, чтобы Церковь никак не зависела от государства, чтобы она обладала внутренней свободой, необходимой для наиболее эффективного выполнения своей миссии – проповеди Евангелия?
Казалось бы, когда над Церковью нет защитной «крыши» государственной опеки, когда отсутствует официальное покровительство – это свидетельство ее слабости и уязвимости. Но, возможно, это и есть суть того пути, о котором говорит христианство: служить людям, а не угождать власти? И, может, для Церкви существование без государственной зависимости – это болезненный, но благословенный путь.